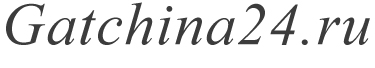Новости Гатчины
22.04Возобновил работу сезонный маршрут № 10
05.03Перинатальный центр приглашает на День открытых дверей!
10.01Опасных веществ в воздухе не обнаружено
06.01В Рождество в центре Гатчины будет перекрыто автомобильное движение
06.01Торжественное открытие катка на Соборной - 7 января
26.12Фонд "Счастливое будущее" вместе с партнерами дарят новогодние праздники детям!
26.12График работы городских и пригородных автобусов в период новогодних праздников
26.12Фестиваль «Новогодняя кутерьма» - с 1 по 8 января в Гатчине
25.12На Соборной готовится к открытию бесплатный каток!
24.12Дрозденко: "Мы хотим, чтобы Гатчина стала яркой звездой на небосводе Ленобласти"
23.12Отключение электроэнергии в Гатчине: 24 декабря
23.12Стало известно, где в Гатчине можно запускать салюты и фейерверки
23.12Полная афиша новогодних и рождественских мероприятий Гатчинского округа
13.12В Гатчинском парке найден ранее неизвестный подземный ход
12.12Стрельба на день рождения обернулась "букетом" статей УК РФ
Афиша-анонсы Гатчины
с 1 по 8 января Фестиваль «Новогодняя кутерьма»
с 24 декабря по 8 января Новогодние игровые программы для детей в Гатчине
7 января военно-историческая реконструкция «Рождественский манифест»
c 25 по 28 декабря Новогодние благотворительные киносеансы
21 декабря концерт «Новый год к нам идет»!
14 декабря «Парад Дедов Морозов» в Гатчине!
14 декабря новогодний праздник «Приоратская сказка»
13 декабря рождественские образовательные чтения Гатчинской Епархии
Самое читаемое
"Из глубины взываю..."
25 июня 2013 г.
Мы не знаем, что такое война. Мы – поколение, берущее знания о ней из мемуаров и современных исследований военной эпохи. Спокойно и несколько отстраненно мы реагируем на торжественные слова митингов – увы, таков дух времени. Но пожелтевшие документы – письма, записные книжки, учебные тетради, чудом сохранившиеся с той поры, – вызывают особые чувства.
Их страшно брать в руки – такие они хрупкие. Пожелтевшая, истонченная на сгибах бумага. Выцветшие чернила, а чаще всего – карандаш. Почерк – то старательный, аккуратный, то летящий, обрывающийся – чувствуется, как двигалось время, то щедро отмеряя минуты и часы отдыха, то отнимая последние мгновения жизни… Это всего лишь первые впечатления – еще предстоит развернуть эти бумаги и погрузиться в чье-то внутреннее пространство – вроде бы чужое, и все же почему-то уже близкое.
Письма и дневниковые записи фронтовика Петра Некрасова принесла в редакцию «Гатчинской правды» его невестка, педагог Гатчинского педагогического колледжа им. К.Д, Ушинского Лидия Ивановна Некрасова, так, впрочем, и не успевшая его увидеть, – Петр Константинович погиб в 1943 году, оставив жену и двух маленьких сыновей. Все документы разложены в аккуратном порядке – начиная с дневника, который Некрасов вел почти с первых дней своей мобилизации.
Долгое время Петр Константинович страшно беспокоился о своей семье, связь с которой была утрачена. Живы ли? Знал только, что Ростовская область, где они остались, занята оккупантами… 24 августа 1942 года он пишет: «Стоим в лесу, в 15 км от Туапсе в сторону Сочи. Больной, лежу на бричке. Ломит поясницу – простыл. В ногах – шоссе, по которому бесконечно движется автотранспорт. В головах – Черное море, над которым беспрерывно рокочут моторы самолетов. Война моторов…
День тихий, безоблачный. Сквозь листву дубняка просвечивают лучи солнца. Я смотрю на этот бесконечно двигающийся мир и перебираю в памяти пережитое…
12 июля эвакуировал семью. Прощание было тревожным. Дети мало соображали в происходящем. Меньший, точно галчонок, раскрыл ротик и поцеловал меня. Старший все спрашивал, почему не едет с нами папка. Плакали жена, мать. Всплакнул и я. Я думал, увижу ли я их когда-либо? Этот вопрос тревожит меня и сейчас…»
На пути к войне (из дневниковых записей П.К. Некрасова)
По этому дневнику можно без труда проследить путь его автора. В августе 1942 года Петр Некрасов был направлен на Закавказский фронт. 20 сентября в составе группы комначсостава его отправили на четырехмесячную подготовку в Телави.
«Телави – богатый городок, – пишет Петр Константинович 1 ноября 1942 года. – Кругом – огромные богатые виноградники, сады с орехами, инжиром, гранатами. На рынке множество овощей, вино, есть хлеб – чуреки. Десятого октября, в теплый, тихий день, под звуки духового оркестра нас погрузили в вагон и отправили. Куда – толком никто не знал».
Учеба продолжилась в Степанакерте, неподалеку от иранской границы. Вот запись от 1 ноября: «Обещают выпустить строевыми командирами. Я нахожусь в минометном подразделении. Миномет еще не изучали. По пути из Телави в Степанакерт у меня возникла мысль приспособить миномет для борьбы с танками. Основной принцип приспособления – это переделка мины и начинка ее горючим. Принцип стрельбы остается прежним…. Думаю свою мысль изложить на бумаге и поделиться ею с командиром батальона. Что скажет он?»
Запись от 3 ноября 1942 года: «Тревожат сообщения по радио. Нами оставлен Нальчик. Сегодня Дугушев – рыжий курсант – возмущался: мы тут изучаем учебно-строевой шаг, а там, мать его так, города сдают! Да, в отношении занятий не все у нас идет, как следует. Учимся лишнему. Много условностей…
Иду по пахоте: жирный чернозем, рыхлая, влажная почва. Тронул ногой. Сыпец свободно рассыпался под носком. Это напомнило о нашем огороде. Летняя посадка картофеля... Болью тронулось сердце. Вспомнилось, с кем она была возделана. Припомнилось, для кого было затрачено столько труда. Где они теперь скитаются!»
Идет второй год войны, но все еще верят, что она скоро кончится. 6 ноября 1942 года Петр Константинович пишет: «Вечер. В казарме яркий свет. Отбой. Все ложатся отдыхать. Скоро лягу и я. День сегодня прошел предпразднично. Немного слушал по радио речь Сталина. Интересно, сказал ли он что-либо в отношении окончания сроков войны? Ведь этот вопрос весьма существенен…»
А вот запись от 21 ноября: «Вчера прочитал речь Черчилля по радио. Открытие второго фронта в Европе в 1942 году не ожидается. Досада и зло берут. Война будет тянуться и тянуться, принося неисчислимые бедствия и тысячи смертей...».
Тоска по семье все усиливается. «11 ноября. День прошел как обычно. Занимались 4 часа тактикой. Какой все-таки пронизывающий ветер! У дороги в корявых ветвях береста обнаружил гнездышко какой-то птицы. Птенцы давно улетели. В гнезде лежали жухлые сырые листья. Семя какой-то травы набухло в этом гнезде и дало нежный росток слабой зелени. Я минуту добрую смотрел на это гнездышко и не мог оторвать взгляда. Так живо оно меня почему-то возвратило к дому, к родине, к семье…»
«15 ноября. Снилась Нина с сыновьями. Потом я увидел ее беременной. Она родила мне третьего сына. Я видел ее вздувшийся живот. Я видел моего третьего сына. Этот тревожный сон волновал мою душу, и невыразимые чувства остались в душе на полный день.
Вчера вечером носил в комендантскую продукты. Светлая туманная пелена висела над землей. Я шел обратно. Слабый свет проникал сквозь ставни окон. У одного дома с серыми каменными стенами, с ржавой красной крышей я услышал плач ребенка. Этот крик чужого ребенка больно отозвался в моей душе. Мое сознание переключилось в мгновение ока на вопрос – где-то и мои, может, дети так же плачут, и она, сама, одна ухаживает, бьется над ними. Проклятая война, проклятый Гитлер!»
Начиная с конца 1942 года, с фронтов начинают приходить радостные вести: «28 декабря 1942 года. В районе Среднего Дона наши войска наступают. Скоро-скоро мое родное место будет свободно. И моя семья…»
«11 января 1943 года… Радостные вести продолжают поступать. Сегодня сообщили о взятии Минвод, Кисловодска, Пятигорска, Железноводска и других городов…».
«20 февраля 1943 года. С фронтов по-прежнему поступают хорошие известия. Родина моя освобождена, и еще больше тянет меня туда – узнать, как там и что…»
Приближение к фронту
3 марта 1943 года курсы по переподготовке завершились. Часть курсантов отправили в распоряжение штаба Южного фронта. Среди них был и Петр Константинович Некрасов, которому присвоили звание лейтенанта. Поезд, сформированный из телячьих вагонов, отправляется из Махачкалы, чтобы 24 марта прибыть в Сальск: «Дует холодный восточный ветер. Сухо. Сальск искалечен, как и все города, где побывал наш «гость». Ужасное зрелище представляет собой и народ – с печатью войны».
«30 марта. Вчера прибыли в Койсуг… Мы у фронта. В 80 километрах от нас Таганрог – он же фронт. Ждем назначения в часть… Где-то далеко-далеко в сторону Таганрога стояло красное зарево пожарища, и огненный отблеск его кроваво красил облака в вышине – там шли ожесточенные бои. Мы несколько раз заходили в дома, пытаясь обнаружить жителей, но они были пусты, оголены, разорены. Таков был Батайск…»
Станица Кагальницкая. Взорванные, сгоревшие станции. Сожженные элеватор и амбары. Труп немца-подрывника в развалинах: «Виднелась из-под штукатурки наманикюренная рука. Шелковая полосатая рубашка, зеленая шинель ошмотьями валялась неподалеку. Валенок, шарф…»
А рядом – колхозное поле, ставшее полем брани: «Куча окровавленных шинелей, шапок-ушанок, вещевых сумок, грязных портянок, обрезанных валенок – все это валяется, втоптанное в землю. Убитых здесь раздевали и хоронили… Дальше по полю валялись противогазные сумки и противогазные коробки – на этих местах были убиты люди. Все поле усеяно мелкими осколками мин…»
Эти записи в дневнике Петра Константиновича – одни из последних. Несложно заметить одну интересную особенность – автор не просто фиксировал происходящие события, он делал это, прибегая к литературному языку. Любимым писателем Петра Некрасова был Лев Толстой, настольной книгой во время учебы – его рассказы. Причем Петр Константинович их не просто читал – он учился у писателя, развивая свою склонность к сочинительству. Сохранилось несколько рассказов Некрасова, неоконченная повесть об офицере Белецком, в которую должны были войти фрагменты из дневника. Упоминал он и стихи, которые печатали в прифронтовых газетах. Даже в рабочей тетради в период учебы будущий лейтенант набрасывал портреты преподавателей и своих товарищей, оттачивая наблюдательное мастерство и стиль. Правда, по мере приближения к фронту времени на литературные опыты оставалось все меньше.
Последняя запись в дневнике сделана 2 апреля 1943 года, когда Петр Константинович получил по-настоящему радостную весть – нашлась его семья. С этого момента начинается его переписка с женой, от которой сохранилось несколько писем, так называемых «секреток».
«Проверено цензурой»
«Секретки» представляли собой разлинованные листы бумаги, которые сгибались пополам и заклеивались затем по краям. Эти поля были помечены надписями: «Выше черты не пишите!», «Ниже черты не пишите!». На внешней стороне такого конверта-письма наносились адресные линии и характерные иллюстрации с надписями, например, «Воинское» и «Смерть немецким оккупантом!», как на письмах П.К. Некрасова.
Фиолетовый штамп «Проверено военной цензурой» стоял на всех письмах, которые приходили с фронта, – важно было скрыть места дислокаций частей от врага. Семья Петра Константиновича находилась не так далеко от места его службы – в селе Степановка Ростовской области. Неудивительно, что первым его порывом было вызвать жену к себе. Правда, назвать место своего пребывания открыто Некрасов не мог, поэтому «шифровался». «Нинусь, я послал тебе одно письмо, это второе, – пишет он. – Недавно послал денежный аттестат на 600 рублей. Кроме того, переслал почтовый перевод на 1300 рублей… Жизнь моя протекает однообразно, расположился я недалеко от В., куда, ты помнишь, когда-то ездил за картофелем».
Но долгожданная встреча так и не состоялась. «Ты извини, что я тебя толкнул на приезд сюда еще раз, но в мой расчет не входило обманывать тебя, – пишет он в письме от 11 апреля 1943 года. – Нас всех куда-то переводят, куда – пока не знаю… Уже факт, что ты меня не застанешь. Все привезенное тобою для меня переведи на деньги. Что здесь нужно приобрести – приобрети».
Беспокойство о трудностях, которые испытывает его семья, – в каждом письме. Бумага на вес золота, времени очень мало, поэтому Некрасов пишет скупо, сжато и, что называется, по делу. Главное его беспокойство – весенние посадки на огороде: до того, как расстаться, семья жила и работала на земле. Он просит – нет, даже требует, чтобы жена добилась выдачи ей земли в колхозе. «Нина, используй все возможности, чтобы огород дал тебе больше пропитания, – настаивает он. – Приказываю, картофель ростками сажай до летней посадки. Прошу, сделай это, Нинусь, ну и другую огородину тоже сажай…»
А вот письмо от 23 апреля, в котором с новой силой прорывается присущая характеру Петра Константиновича лиричность: «Сейчас, когда мне известно, что вы живы, и где, и как живете, мне особо сильно хочется побывать среди вас. Я нахожусь в обстановке: яркий солнечный день, ни облачка на небе, чуть белесоватая его синева огромной посудиной, опрокинутой над землей, примыкает к горизонту. Крепкий ветер, то усиливаясь, то ослабевая, тянется весело, протяжно завывая в сухих балках прошлогоднего бурьяна. Я сижу на дне глубокого окопа, у ног моих старый лист прошлогодней кукурузы. Ветер, врываясь сюда, играет им, шевелит, словно играющая кошка. Из окопа мне видна часть метельчатой прошлогодней полыни, изрезанные куски неба с вибрирующим в нем жаворонком, его весенняя песня доносится до меня.
Издалека доносятся глухие удары артиллерии, бьющей по немцам. Ближе идет артиллерийская и пулеметная пристрелка огневых позиций. Это, Нинусь, еще не фронт, это только прелюдия к нему. Если я останусь способен писать после боев, я тебе постараюсь подробнее описать его – хочется, чтобы ты через меня увидела и испытала…»
Саур-Могила
Петр Некрасов погиб в 1943 году в боях за освобождение Донбасса. Ему было 33 года. Похоронен на Саур-Могиле. Вспомним: штурм Саур-Могилы, одной из наиболее укрепленных немцами высот, был начат советскими войсками 18 августа 1943 года. В штурме участвовали части 96-й и 271-й гвардейских стрелковых дивизий 5-й Ударной армии. Сложность состояла в том, что нашим войскам приходилось наступать с крутого склона, в то время как у немецких войск в тылу был пологий склон. Тем не менее, советское командование приняло решение о лобовом штурме высоты.
Те, кто выжил поле этих боев, не любил возвращаться сюда после войны – вспоминали, как приходилось двигаться вверх, по склону, прикрываясь трупами своих товарищей. Одно из самых страшных впечатлений тех дней – катившиеся сверху немецкие гранаты и постоянное ожидание того, что какая-нибудь из них разорвется у твоей головы. Тем не менее, 31 августа Саур-могила, или высота 277,9, была взята – ценой жизни более чем 23 тысяч советских солдат и офицеров. Бои за эту высоту положили начало освобождению Донбасса.
С 22 июня 1941 года прошло ровно 72 года – целая человеческая жизнь. Но – никто не забыт, ничто не забыто. Откуда берется эта память? Почему ее так берегут даже те, в ком она не успела зародиться по возрасту? Была у Ахматовой такая величественная строфа, сочиненная в 1945-м:
Ржавеет золото и истлевает сталь,
Крошится мрамор – к смерти все готово.
Всего прочнее на земле печаль
И долговечней – царственное слово.
Юлия ЛЫСАНЮК
Гатчинская правда, № 68 (20362) от 22 июня