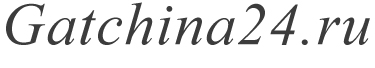Новости Гатчины
22.04Возобновил работу сезонный маршрут № 10
05.03Перинатальный центр приглашает на День открытых дверей!
10.01Опасных веществ в воздухе не обнаружено
06.01В Рождество в центре Гатчины будет перекрыто автомобильное движение
06.01Торжественное открытие катка на Соборной - 7 января
26.12Фонд "Счастливое будущее" вместе с партнерами дарят новогодние праздники детям!
26.12График работы городских и пригородных автобусов в период новогодних праздников
26.12Фестиваль «Новогодняя кутерьма» - с 1 по 8 января в Гатчине
25.12На Соборной готовится к открытию бесплатный каток!
24.12Дрозденко: "Мы хотим, чтобы Гатчина стала яркой звездой на небосводе Ленобласти"
23.12Отключение электроэнергии в Гатчине: 24 декабря
23.12Стало известно, где в Гатчине можно запускать салюты и фейерверки
23.12Полная афиша новогодних и рождественских мероприятий Гатчинского округа
13.12В Гатчинском парке найден ранее неизвестный подземный ход
12.12Стрельба на день рождения обернулась "букетом" статей УК РФ
Афиша-анонсы Гатчины
с 1 по 8 января Фестиваль «Новогодняя кутерьма»
с 24 декабря по 8 января Новогодние игровые программы для детей в Гатчине
7 января военно-историческая реконструкция «Рождественский манифест»
c 25 по 28 декабря Новогодние благотворительные киносеансы
21 декабря концерт «Новый год к нам идет»!
14 декабря «Парад Дедов Морозов» в Гатчине!
14 декабря новогодний праздник «Приоратская сказка»
13 декабря рождественские образовательные чтения Гатчинской Епархии
Самое читаемое
"Про это не напишешь, это надо смотреть"...
25 октября 2012 г.
… Кажется, можно было бы ничего больше не добавлять к этому восторженному отзыву об одном из фестивальных спектаклей, оставленному кем-то из зрителей в специальной книге. Тем не менее, мы решили предпринять попытку подробнее рассказать о некоторых спектаклях, представленных на VIII международном театральном фестивале «Авангард и традиции».
Две «Мартышки»
Среди прочих в программе фестиваля можно было обнаружить два спектакля с одним и тем же названием – «Мартышка». Так же называется пьеса петербургского драматурга А. Зинчука, легшая в основу спектаклей, привезенных в Гатчину Датско- российским театром «Диалог» (Копенгаген, Дания) и Валкским Городским театром (Валка, Латвия).
Было ли так задумано теми, кто отбирал работы на фестиваль, мы не знаем, но после просмотра спектаклей возникло ощущение, что в них словно отразилось название фестиваля. Без лишних изысков, простой и вместе с тем необыкновенно поэтичный спектакль Аллы Зориной разительно отличался от оперировавшего «модными» образами (головы-манекены, лакированные поверхности крашеных чемоданов, использование видеофрагментов, эпизоды символистического содержания), жесткого по своей интонации спектакля Айварса Икшелиса. Традиция противостояла авангарду, и, осмелимся сказать, на этот раз оказалась «сильнее».
Сюжет пьесы прост: Примадонна, некогда известная актриса, теперь живущая в Доме ветеранов, перед самой смертью встречается с собой молодой, Мартышкой – так ее называли в молодости. Мартышке немного жутковато, она видит себя на склоне лет, Примадонне больно за свои ошибки молодости, за несохраненную любовь, и она пытается предостеречь Мартышку от них…
Режиссер латвийского спектакля переформатирует пьесу в монолог Примадонны, оставляя Мартышке лишь несколько фраз и превращая ее в некий призрак, на протяжении всего действия «ведущий» Примадонну по воспоминаниям. В самый последний момент Мартышка убережет Примадонну от самоубийства, и только тогда та заметит ее, наденет на нее простое, белое с красными узорами платье – и Мартышка станет реальной, обретет плоть, утратив повадки какого-то пластического существа в полупрозрачной розово-бело-черной шали, впервые заговорит. Мартышка и останется на сцене, останется жить – а Примадонна отправится в новое путешествие, в какой- то другой, далекий и неизвестный живым мир, прихватит с собой маленький чемоданчик. Между ними так и не возникнет какой-то теплой, душевной связи, они не станут близкими друг другу – это странное, неловкое, робкое молодое существо чуждо прожившей тяжелую и горькую жизнь стареющей актрисе. Не случайно возникает эпизод, когда Примадонна придавливает Мартышке руку чемоданом, словно грузом воспоминаний, который ей еще только предстоит ощутить на своих плечах.
Совсем по-другому выстраиваются отношения между Примадонной и Мартышкой в спектакле А. Зориной. Они невозможно близкие, так много друг о друге знающие и чувствующие… Это их внутреннее единство подчеркнуто внешне – на них одинакового фасона свободные легкие платья, разве что цвет платья Мартышки чуть бледнее, чем у Примадонны – оттого она кажется легче, тоньше, слабее. И слова «Как холодно!» ей еще только предстоит научиться говорить, а пока она только «репетирует», произнося их то так, то эдак – словно «пробует на вкус» смерть, которая ждет ее так не скоро. Но умереть не так просто – быть может, это и есть самая сложная роль, которая предстоит каждому из нас, и пока что у юной Мартышки, готовой выпрыгнуть с балкона из-за несчастной любви, она не очень-то и выходит. Ее еще только ждет «в воздухе звенящее, как весенний шмель, и, как шмель, тревожное и опасное, и больно ранящее, и мгновенное, как выстрел, слово: «жизнь»!»
Образ Примадонны в датско- российском спектакле полон благородства, внутренней красоты, величия, тогда как в спектакле латвийского режиссера этот образ грубее, жестче, реалистичнее – героиня может закурить, у нее болит спина и ей приходится делать зарядку прямо на полу, она надевает не шелковое свободное платье, которое могло бы подойти и для сцены, а вязаное темно-зеленых тонов платье- накидку, скорее подходящее для прогулок по осенне-холодной набережной канала Грибоедова, и нелепые вязаные носочки с пумпонами. За ее плечами не только личная история, «маленькая жизнь», посвященная любимому мужчине, немного грустная и, конечно, полная боли, а жизнь «большая», жизнь нескольких поколений – не случайно в ее воспоминаниях возникают картины дореволюционных балов, потом кусочек блокадного хлеба, звучат разные имена Петербурга: Петроград, Ленинград…
Спектакль Аллы Зориной получился про людей, конкретных, живых людей со своей судьбой. Здесь они – самое главное, все эти «чеховские», «островские» герои, гамлеты и антигоны, доживающие свой век за стенкой Дома ветеранов сцены. Айварс Икшелис в своем спектакле обращается к более обобщенным размышлениям, например, о «славе», «деньгах», «власти над людьми», которые стали «тремя китами» современного общества (на три головы-манекена героиня кладет чемодан). Такая вот встреча мужского и женского взгляда на одну и ту же историю.
Душа грустит о небесах
Жанрово необычный спектакль был представлен на фестивале студентами программы «Актерское искусство» Факультета искусств СПбГУ. «Жизнь и смерть колхозницы Анны» по повести Р. Погодина «Одинокая на ветру» - житие «несвятой» женщины, отказавшейся от веры в Бога и закончившей свой нелегкий, полный страданий, жизненный путь у Престола Божьего.
Холщовые ткани, жестяные ведра, белые ткани одежд, красные платки – таково фактурное наполнение спектакля, тяжелой свинцовой пылью оседающего в душе. Но за кажущейся простотой – нестерпимо-тяжелая, «контуженная» судьба одинокой, простой, обыкновенной женщины.
Радость не успевает обустроиться в ее сердце, несчастье за несчастьем обрушивается на эти хрупкие плечи грохотом рассыпавшихся по полу ведер – взорвавшейся бомбы, погубившей на войне сына Пашку и вслед за этим словно и всю ее дальнейшую жизнь. В этой жизни перемешаются рождение и смерть, счастье и страдание. Снова будут рождаться дети, снова будут погибать близкие. А она все будет приходить на могилку к первому сыну, словно пытаясь укрыться от беспощадной своей судьбы, и будет возвращаться обратно, чтобы «начать, в который раз, новую жизнь».
Наконец, Анна все же оставит свою мирскую жизнь, окажется случайно в церкви и останется там – сторожихой. Станет говорить: «А, нету его, твоего Бога. Помер он. Пулей его убили». Заставит церковь цветами, посоветует попу завесить ее вместо икон картинами, которые у него так хорошо выходят… Кажется, станет немного счастливее, спокойнее. И умрет – тихо, незаметно, «с улыбкой виноватого сердца» на лице. По тем же жестяным ведрам «перейдет» в другой мир, где ей предстоит пережить еще сорок дней мытарств по земле, прежде чем душа воpнесется в рай. Эти ведра в самом конце спектакля будут беззвучными колоколами безмолвно «звонить» по ушедшей и обретшей покой душе Анны.
Удивительно, как актрисе (Александра Николаева) удается держать в своей игре сразу два плана: «мирского» и «надмирского» существования. Не возникает сомнений в подлинности ее страданий, но вместе с тем с первых же минут во взгляде ее, в движениях проявляется внутренняя отрешенность души, ее «небесность». Все в ней словно на грани: хрупкая и вместе с тем наполненная внутренней силой фигура, необыкновенно пластичные руки и вместе с тем характерная угловатость движений. И характер ее героини тоже сложен, неоднозначен, противоречив: наивность, «неотесанность» ее души сочетается с цельностью, непоколебимостью натуры, прямолинейность – с чуткостью и отзывчивостью. Святость ее не в следовании заповедям, а в чистоте помыслов, не в самобичевании и самоограничении, а в поиске простой, естественной, доброй красоты.
Образ Анны в этом спектакле неминуемо пересекается и с образом России-матери. «Как неживая, говорит. А она давно была неживая, Анна. И мы неживые. Вся Россия давно неживая. Когда Бога у народа нет, и народа нет. Не живые мы, доцент, и не мертвые». Образ матери, несущей на руках убитого пулей ребенка навстречу немецким мотоциклам, образы красных и белых коров перед наступающей войной, одинаково-грубых старух-богомолок, «привыкших жить трудно и некрасиво» и страшащихся свободы – все это и о России, о кажlом из нас.
Марина ХОМУТОВА
Гатчинская правда, № 121 (20265) от 25 октября