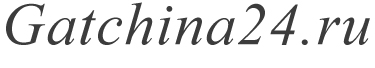Новости Гатчины
22.04Возобновил работу сезонный маршрут № 10
05.03Перинатальный центр приглашает на День открытых дверей!
10.01Опасных веществ в воздухе не обнаружено
06.01В Рождество в центре Гатчины будет перекрыто автомобильное движение
06.01Торжественное открытие катка на Соборной - 7 января
26.12Фонд "Счастливое будущее" вместе с партнерами дарят новогодние праздники детям!
26.12График работы городских и пригородных автобусов в период новогодних праздников
26.12Фестиваль «Новогодняя кутерьма» - с 1 по 8 января в Гатчине
25.12На Соборной готовится к открытию бесплатный каток!
24.12Дрозденко: "Мы хотим, чтобы Гатчина стала яркой звездой на небосводе Ленобласти"
23.12Отключение электроэнергии в Гатчине: 24 декабря
23.12Стало известно, где в Гатчине можно запускать салюты и фейерверки
23.12Полная афиша новогодних и рождественских мероприятий Гатчинского округа
13.12В Гатчинском парке найден ранее неизвестный подземный ход
12.12Стрельба на день рождения обернулась "букетом" статей УК РФ
Афиша-анонсы Гатчины
с 1 по 8 января Фестиваль «Новогодняя кутерьма»
с 24 декабря по 8 января Новогодние игровые программы для детей в Гатчине
7 января военно-историческая реконструкция «Рождественский манифест»
c 25 по 28 декабря Новогодние благотворительные киносеансы
21 декабря концерт «Новый год к нам идет»!
14 декабря «Парад Дедов Морозов» в Гатчине!
14 декабря новогодний праздник «Приоратская сказка»
13 декабря рождественские образовательные чтения Гатчинской Епархии
Самое читаемое
Моё "атомное" десятилетие
30 августа 2012 г.
(Начало в № 88, 91, 94)
VI
В 60-е гг., особенно в первой половине, фактически еще продолжалось становление филиала ФТИ как самостоятельной научной организации. Вновь созданная структура утверждала себя в научно-исследовательском пространстве. В эти годы формировался состав научных подразделений как своего рода социальных общностей. Продолжали появляться новые люди, новые сотрудники. Так в 1963 г. на работу в филиал поступил Слава Виноградов – выпускник ЛИИЖТ’. Мы как-то сразу же подружились. Сейчас мне даже трудно вспомнить, на чем мы сошлись. Это был случай, когда в дружбе нет иных расчетов и соображений, кроме нее самой. Несмотря на то, что позже мы жили в разных городах, наша дружба продолжалась до самого ухода Славы из жизни в ноябре 2008 г.
Контекст бытия человека определяется во многом ближайшим окружением, другими людьми, с которыми он находится в непосредственном контакте, дышит одним воздухом. Каким был в человеческом отношении мой «ближний круг»?
Прежде всего, это были «технари», специалисты разного профиля. Усвоение технических знаний по-особому влияет на сознание. Мировоззрение складывается под влиянием представлений научной картины мира. Не случайно в этой среде совершенно отсутствовала религиозность или вера в мистику, магию, оккультизм. Это были очень реальные, практически ориентированные люди. Повседневные нерабочие разговоры крутились вокруг рыбалки и мотоциклов.
Рыбалка меня совсем не интересовала, а вот права на вождение мотоцикла я получил в июне 1964 г. Видимо, я тоже хотел стать своим, подобным, войти в круг общения. Некоторое время покатался на общественном, досаафовском мотоцикле, но приобретать себе мотоцикл или мотороллер не стал. Для езды по ближайшим окрестностям мне вполне хватало велосипеда.
Надо сказать, что внутриколлективные отношения среди работающих на реакторе были на удивление добрые, дружеские. Внешне это не особенно проявлялось: могли и подшутить, и разыграть, и высмеять, порой даже грубовато. Но, по сути – всегда были готовы понять и при необходимости – придти на помощь. Но как все люди, могли неадекватно реагировать на то, что выходит за пределы обычного. Помню, например, случай, которому был свидетелем. Работала в команде реактора инженер Кира Воинова, женщина лет тридцати, очень высокого роста и крепкого, прямо-таки мужского сложения. Так вот, она часто оказывалась объектом насмешек из-за своих физических данных.
Однажды весной мы шли по мосткам от входа в корпус к проходной. Мостки узкие, кругом вода со снегом, идем гуськом друг за другом, человек пятнадцать. Кира идет примерно третьей от начала нашей «колонны». Она на голову выше идущих впереди и сзади мужчин. Вдруг в нее сзади летит снежок. Кира оглянулась, ничего не сказала. Тут же летит второй снежок. Кира разворачивается и ударом по уху сбивает с ног идущего следом мужчину. Бедняга барахтается в снегу, а все продолжают идти, давясь от смеха. Вот такая, не очень красивая картинка.
Впрочем, функционировал и механизм отторжения непохожего, независимого, «инородного тела», чем-то нарушающего общую благостную картину. Пример – судьба того же Славы Виноградова. Классный специалист по использованию информационных технологий в физических исследованиях, кандидат наук – он был уволен по сокращению штатов, потому что держался независимо, говорил, что думал, называл вещи своими именами, позволял себе высказывать прямо в лицо неудобную правду. К сожалению, так было.
Большинство сотрудников команды реактора – это либо коренные гатчинцы, либо выпускники ленинградских вузов, чаще всего, не ленинградцы по происхождению. Первое время чувствовалась не очень высокая активность в культурном отношении. Но постепенно интерес к культуре и искусству стал ощутимо возрастать.
Регулярно читались «толстые» журналы (особенно «Новый мир» и «Иностранка»). Большую роль играло кино. Тогда это было всеобщее увлечение: за билетами на интересные фильмы выстраивались огромные очереди. Помню, как в сентябре 1964 г. в 9 часов утра перед кинотеатром вся площадь была запружена народом, желавшим посмотреть французский фильм режиссера Ива Чампи «Кто Вы, доктор Зорге?». Кинотеатр «Победа», репертуаром которого творчески руководила Н.Т.Ведюшкина, работал очень нестандартно: была возможность видеть лучшие советские и зарубежные фильмы. Хорошо помню, например, как активно обсуждались «Девять дней одного года» М.Ромма (1962) и «Гамлет» М.Козинцева (1964).
Помню, как в конце 1962 г. мы прочитали «Один день Ивана Денисовича». Характерно, что главным впечатлением было не открытие правды о лагерях сталинского времени, а мастерство А.И.Солженицына, сумевшего передать так много через ход одного дня обычного зека. И снятие Н.С.Хрущова с высших постов в государстве в 1964 г. прошло для нас малозаметно, т.к. для нас, как мы считали, ничего принципиально не менялось. Об аресте и ссылке И.Бродского (1964) я, например, ничего не знал. Из крупных событий той поры запомнились полет в космос В.Терешковой (июнь 1963) и убийство президента Джона Кеннеди (ноябрь 1963). Думаю, это характерно для значительной части молодежи того времени: мы были мало информированы и очень далеки от политики.
Надо признать, что филиал давал достаточно возможностей для духовного развития. Осенью 1962 г., например, выяснилось, что кафедра философии Ленинградского отделения Академии наук СССР проводит занятия для сотрудников академических учреждений по подготовке к сдаче кандидатского экзамена по философии. Дважды в неделю в небольшой компании мы стали ездить на лекции и семинары.
Занятия оказались очень интересными и запомнились на всю жизнь. Акцент был сделан не на марксистско-ленинскую философию как таковую, а на философию науки. Основной лекционный курс вел Михаил Васильевич Мостепаненко. В это время он готовил книгу «Философия и физическая теория» (Л., 1969) и знакомил нас с материалами этой монографии. Очень любопытные лекции были посвящены теме «Философия и методы научного познания». По мысли М.В., между физической теорией и философией существует особое промежуточное звено, через которое, с одной стороны, философия влияет на физику, а с другой – физика влияет на философию. Этим звеном является «система физических представлений и понятий, называемая физической картиной мира». Его примеры и пояснения были особенно убедительны для нас - людей, получивших техническое образование.
Несколько лекций прочитал нам и заведующий кафедрой Анатолий Георгиевич Харчев. Он был социологом, представителем науки, которая с 1929 г. до середины 50-х гг. была под запретом в нашей стране и не была так широко распространена, как сейчас. Тогда А.Г.Харчев как раз заканчивал исследование «Брак и семья в СССР», которое защитил вскоре в качестве докторской диссертации (1964). А.Г. познакомил нас с социологическими методиками, их возможностями в анализе и интерпретации действий людей в социологическом контексте. Интерес к исследованиям такого рода у меня сохранился на всю жизнь.
Семинарские занятия у нас вел Иосиф Иосифович Лейман, тогда молодой преподаватель. Позже он получил известность своими работами по науковедению, этике и социологии науки. Под его руководством я выполнил реферативную работу «Сходство и различие научного и художественного отражения действительности». Этот реферат неоднократно пригодился мне впоследствии.
В мае 1963 г. мы сдавали кандидатский экзамен по философии. Это были очень важные для нас социально-гуманитарные знания. И главным результатом оказался вовсе не полученный мною высокий балл, а тот глубокий след, который оставили эти занятия в нашем сознании.
В 1963-64 гг. целый учебный год мы занимались английским языком. Работу преподавателя оплачивал филиал. Кроме занятий с преподавателем, в течение полугода я ежедневно занимался языком дома по 2-3 часа, используя записи на виниловых дисках. После успешной сдачи кандидатского минимума я два учебных года проработал преподавателем английского языка в школе рабочей молодежи в Гатчине.
Наша группа занимала промежуточное положение между Сектором физики и техники реакторов, к которой принадлежала организационно, и Лабораторией нейтронных исследований, поскольку тоже проводила реакторные испытания. Естественно, мы общались и с физиками-исследователями. Это были, как правило, очень контактные, веселые, дружелюбные люди: более взрослые, такие, как Г.М.Драбкин, и молодежь – А.Окороков, Г.Гордеев, Е Забидаров. Всех не перечислить.
Среди молодых выделялся В.М.Лобашов, восходящая «звезда» в физике. Среднего роста, крепкого телосложения, лысоватый, в очках, он всегда хранил недовольное, полупрезрительное выражение лица, как будто хотел сказать: «Ничего толкового Вы ни сказать, ни сделать не сможете!».
Лобашов раньше многих защитил диссертацию (1963), позже стал академиком, заведовал Отделом экспериментальной физики Института ядерных исследований РАН в г. Троицке (Московская обл.), но характерное для него отношение к сотрудникам, похоже, сохранил на всю жизнь. Во всяком случае, когда после смерти Славы Виноградова его сестра обратилась к Лобашову как руководителю подразделения с просьбой о помощи, отклика не последовало. А ведь именно Лобашов пригласил Славу на работу в Подмосковье.
В эти годы круг моих знакомых среди сотрудников филиала сильно расширился. Оказалось, что есть много способных и интересующихся искусством людей. Гена Попов, например, замечательно играл на скрипке. Саша Иванченко сочинял неплохие стихи. Впоследствии он неоднократно писал нам куплеты и поэтические вставки в наши спектакли.
Тогда же установилась традиция проведения в филиале праздничных вечеров отдыха на втором этаже здания столовой. Эти вечера становились настоящими культурными событиями, попасть на них стремилась вся гатчинская молодежь. Обычно в программе вечера был очень неплохой концерт, включавший и классику, и эстраду. Играл эстрадный ансамбль филиала.
Звездой нашей эстрады была Ирина Макашева – меццо-сопрано. Она занималась сольным пением в Доме ученых им. М.Горького в Ленинграде, а у нас в филиале она пела эстраду. Помню, как в луче прожектора она запевала «Дым» Дж. Керна:
Мы встретились с тобой
Ночью голубой,
И окутал нас облаком своим
Нежных яблонь дым.
Дым… Все скрывает дым.
Счастьем молодым
Вся душа полна,
Дымкой золотой
Призрачного сна. (Пер. Т.Сикорской).
И когда Ирина на проигрыше отходила в сторону, как бы оставляя нас наедине с этой щемяще нежной и печальной музыкой – это было просто прекрасно, и все тут! Замечательно пела Ирина и «Begin the Beguine» («Начало танца») К.Портера.
В филиале устраивались выставки художников-авангардистов. Помню одну из таких выставок в довольно большом помещении на втором этаже в здании проходной. Запомнились две картины на этой выставке. Одна называлась «Страх». В трамвайном вагоне на скамейках по сторонам сидят люди. Они изображены зеленым цветом, причем контуры двоятся и троятся: люди дрожат от страха. Почему именно в трамвайном вагоне? Возможно, это метафора земного шара, несущегося по орбите как «последний троллейбус» или «заблудившийся трамвай».
Другая картина (название забылось) – многофигурная композиция, бытовая сцена в черно-серых тонах. В правом нижнем углу художник изобразил себя с палитрой. В глаз автопортрета вставлена лампа со стеклом. Единственное яркое и цветное пятно – это огонек лампы. Все ахали: вот оно! Жизнь в истинном свете видит лишь глаз художника!
Так или иначе, жизнь предлагала множество источников культурной информации, и мы ими, по возможности, пользовались.
Заметим кстати, что персонал режимных предприятий находился под пристальным вниманием соответствующих органов. Об этом можно судить по эпизоду, который имел место со мной.
Весной 1962 г. я получил повестку – вызов в военкомат. Дело естественное, т.к. я был офицером запаса как окончивший военную кафедру Политеха. Но когда я явился по вызову, меня принял в специальном кабинете майор госбезопасности и стал расспрашивать о сотрудниках. Его, в частности, интересовал Леня Евстифеев: «А что он говорил тогда-то? А рассказывал ли он анекдот про…»? Я отговаривался тем, что мы работаем в разных подразделениях, что не помню такого разговора. Может быть, и было, но я не придал значения и т.п. После примерно получасовой беседы майор, видимо, понял, что я не склонен к сотрудничеству, и отпустил меня, взяв, однако, расписку о неразглашении разговора. Больше меня по этой линии не беспокоили, но вывод о том, что «колпак» над учреждением существует, можно было сделать.
В.ВЕЛЕДИНСКИЙ
(Продолжение следует)
Гатчинская правда, № 97 (20241) от 30 августа